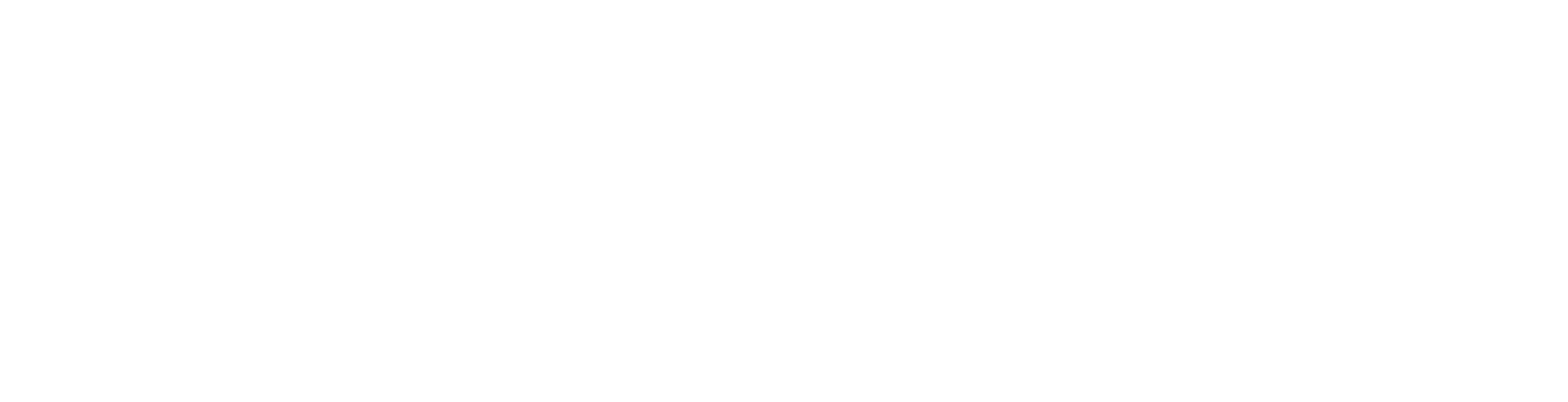
Все движется на гладкой странице, но движения не видно, ничего не меняется на ее поверхности, как на заскорузлой поверхности мира все движется и ничто в сути своей не меняется…
Итало Кальвино
Увлечение готикой стало общеевропейским культурным явлением во второй половине XVIII века. Английский писатель Хорас Уолпол опубликовал в 1764 году новеллу «Замок Отранто», тем самым открыв дорогу целому направлению в литературе. В романах Вальтера Скотта и Виктора Гюго жанр получил блестящее продолжение, причем архитектура Средневековья всегда играла в произведениях этих мастеров первейшую роль, создавая декорации для развертывания самых невероятных, а порой мистических, сюжетов. Знаменитый роман «Собор Парижской Богоматери» Гюго стал своего рода формулой соединения стихий литературы и зодчества. Вальтер Скотт же и вовсе соорудил для себя в виде готического замка целое поместье Эбботсфорд. Гравированные изображения средневековых зданий отвоевывали у античных руин внимание любителей прошлого, стимулируя чтение готических романов и развитие неоготического строительства повсюду, вплоть до России. Так, благодаря этой моде, в 1770–1780-х годах возник и ансамбль усадьбы Михалково.
Выставка-путешествие состоит из двух частей. В первой представлены снимки соборов Франции, во второй – Германии, Австрии, Чехии, Италии и Испании. Зрителю предлагается знакомство с такими ключевыми памятниками, как Нотр-Дам в Реймсе, кафедральный собор Севильи, башня Сен-Жак в Париже и многими другими. Одним из наиболее важных объектов экспозиции можно считать собор Сен-Дени в Париже – первый готический храм, построенный на средства аббата Сугерия (1081–1151). Именно в Сен-Дени в полной мере воплотилась идея светоносности пространства католического собора, точно переданная в произведениях Ирины Григорьевой.
Уникальная авторская техника съемки фотохудожницы через ткань создает эффект вуали, которая парадоксальным способом не скрывает, а, наоборот, делает более зримыми образы старинных зданий, деталей, статуй и мифических фигур. Благодаря синему фильтру, фотографу удается воплотить в своих работах ощущение завесы времени и тайны, сокрытой в стенах величественных западноевропейских соборов.
Первая часть выставки сопровождается саунд-дизайном, созданным специально для проекта музыкальным продюсером и саунд-дизайнером Мариам Садыговой. Музыкальная композиция «Готическая тишина», вдохновленная фотографиями Ирины Григорьевой, с первых шагов погружает зрителя в особую атмосферу старинной архитектуры.
Мариам Садыгова: «В этой аудиальной одиссее слушатели оказываются внутри медленной материи, где объединяются в одно целое тишина и архитектурное величие, звук переплетается с готическими образами, а зритель превращается в обитателя мистических соборов». «Готическая тишина» – это современное переосмысление традиционных классических музыкальных мотивов, соединенное с ненавязчивым и обволакивающим звучанием эмбиента.
Ирина Григорьева – московский мультимедийный художник. В 2010–2012 годах обучалась в Британской высшей школе дизайна. Участник ряда крупных выставок в России и Италии. Лауреат премии Fine Art Photography Awards и конкурса International Photography Grant. Проект «Готическая одиссея» начат в 2013 году и продолжается до сих пор.
Культурный центр «Михалково» (Москва),
архитектурная фотогалерея «Точка» (Санкт-Петербург)
Креативный директор и главный куратор Культурного центра «Михалково»: Светлана Садыгова
Куратор выставки и архитектурной галереи «Точка»: Владимир Фролов
Ассистент куратора: Прасковья Морозова
Экспозиционер: Алиса Гиль
Координаторы: Анна Попова, Ксения Ильиных, Наталья Свиридова
Графический дизайн: Маргарита Варакина
Саунд-дизайн: Мариам Садыгова
Информационный партнер выставки: Timepad
2 ноября 2025 | Музыкальная лекция «Готическая музыка сквозь века» с пианисткой Еленой Мойсеенко |
16 ноября 2025 | Лекция искусствоведа, историка фотографии Никиты Слинкина «Архитектурная фотография: мечта, фиксация и реконструкция» |
29 ноября 2025 | Киноклуб в усадьбе Михалково: «Химера» Аличе Рорвахер, показ и обсуждение |
14 декабря 2025 | Лекция искусствоведа Анастасии Егоровой «Готический собор: архитектура веры и образ мира» |
21 декабря 2025 | Концерт классической музыки «Готическое Рождество»: Елена Мойсеенко (фортепиано), Антон Мойсеенко (кларнет) |
31 января 2026 | Лекция искусствоведа, научного сотрудника Третьяковской галереи Елизаветы Новиковой «Готика по-русски» |
14 февраля 2026 | Киноклуб c Илектрой Канестри: лекция «Стиль в фильмах Федерико Феллини» и показ фильма «Джульетта и духи» |

